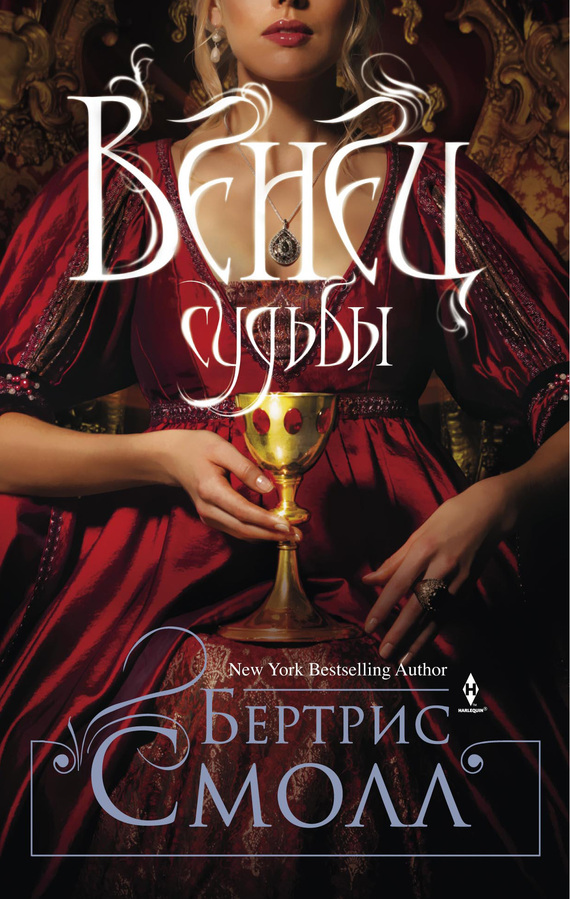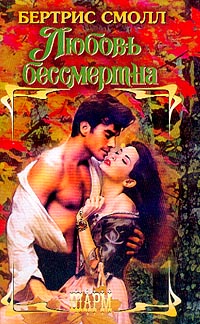13
Я снова погрузилась в дела, но лихорадочное состояние и потребность отвлечься растворились в повседневной суете. Подспудно, без спешки, я готовилась к тому времени, когда уеду в Апиету, оставив Эспан на самоуправлении, при полной самостоятельности. Счастливая деловая осень — с книгами, музыкой, нормальными человеческими интересами, далекими от личных проблемами и с Блонделем для компании.
Он пил, но я могла его понять. Выходя из темного леса, мы все выбираем себе дорогу, каждый должен найти свой собственный путь — и хотя я с болью смотрела на его затуманенные глаза и припухшее лицо, отмечала небрежность в костюме и в манере держаться, это было лучше, чем видеть его несчастным. В подпитии он не был ни неприятным, ни шумным и никогда не напивался до бесчувствия. Многие из наших самых интересных и оживленных разговоров начинались после того, как бутылка была опорожнена. И хотя я понимала, почему он так много пил, знала из нашего общего опыта ту боль, которую он пытался хотя бы ненадолго заглушить, была и еще одна причина, о которой он не трубил на весь свет. Рана на руке давно зарубцевалась, но беспокоила его до сих пор: болела перед дождем или когда он очень уставал. По утрам рука висела тяжелая и ослабевшая. И постепенно усыхала, как пораженная болезнью ветка на дереве. К счастью, будучи в первый раз ранен, Блондель начал тренировать левую руку и теперь мог писать и играть на лютне обеими руками одинаково.
Возможно, такой источник ощущения счастья может показаться несколько странным, но те месяцы в Эспане были освещены неким светом, и теперь, когда я вспоминаю те дни, мне кажется, что погода там всегда была хорошей и постоянно сияло солнце.
А потом пришло письмо от Беренгарии.
Я часто отмечала особый пафос в написанном людьми, которые только-только овладевают пером, или даже более опытными, но не склонными ни к эпистолярному жанру, ни к искусству вообще. Перо в руках новичков — великий прорицатель. Опытные писатели нередко прячутся за прекрасными фразами, сплетающимися в гладкую речь, другие же — может быть, как бы в компенсацию этого — пишут вещи, хватающие за сердце, прибегая к красноречивым умолчаниям.
«Я хочу, чтобы ты была здесь, Анна, чтобы я могла с тобой разговаривать».
Мы проводили вместе с нею долгие, бесконечно долгие часы, не зная, что сказать друг другу, но я понимала, что она имела в виду.
«Самочувствие короля очень быстро улучшилось, и он снова участвует в боях. Однажды в ходе сражения французы прорвали нашу линию, и бой завязался совсем близко — мне было все видно, как на турнире. Ужасное зрелище: люди падали мертвыми, и я боялась, что убьют и его. Это произошло за два дня до того, как я кое-что узнала…»
Интересно, что она имеет в виду?
«У меня теперь много придворных дам. Самое модное развлечение здесь — говорить по-английски. На английском тараторят даже аквитанки. Они пытаются учить и меня, но, как ты знаешь, я не слишком способная ученица. Ричард английским не пользуется, хотя и понимает его».
Если бы он им пользовался, она тут же начала бы брать уроки и овладела бы английским так же быстро, как и любая другая из ее дам, явно прибегавших к этому странному языку, не желая, чтобы она понимала суть разговора.
«Говорят, что на Рождество мы, возможно, поедем в Манс. Я слышала о визите Бланш. К Ричарду собирался приехать Артур Бретанский, но его мать Констанция воспротивилась этому, и Ричард рассердился».
Чрезвычайно важное сообщение! Отношения с Ричардом улучшились настолько, что Беренгария могла подумать о ребенке и обскакать юного Артура, племянника Ричарда и предполагавшегося наследника. Она предупредила меня, что на Рождество отправится, по стопам Бланш, к могиле святой Петронеллы.
Письмо заканчивалось теплым выражением надежды на то, что, где бы они ни решили провести Рождество, я присоединюсь к ним. Что ж, выучу английский и, скрыв это, займу свое место среди ее придворных дам.
Такая мысль мне понравилась, и осенью я начала заниматься. Таким образом у нас с Блонделем появился еще один общий интерес. Он немного знал английский и тоже решил заняться его изучением.
Среди женщин, нашедших себе пристанище в Эспане, была потрепанная, сухопарая старуха по имени Халдах, хваставшаяся тем, что была англичанкой не только по национальности и родословной, но и по крови. Ее прадед якобы был одним из танов Гарольда и умер в числе преданных ему людей, которые в конце того долгого дня полегли вокруг последнего «короля англичан» на Сенлакском поле. Его вдова, в то время уже мать маленькой девочки, впоследствии вышла замуж за нормандского лорда и положила начало хитрости и вероломству, которые больше ста лет поддерживали версию английского происхождения в семье без примеси нормандской крови.
— Когда мне было восемь лет, — рассказывала старуха, — мать говорила мне, что я — ее саксонский ребенок: она спала с одним женатым работником-шотландцем, пока тот, кого называли моим отцом, воевал с шотландцами на стороне Стивена. Если посмотреть на меня внимательно, на моем лице можно увидеть отпечаток крестьянского происхождения, — но это саксонская кровь, бывшая для моей матери дороже крови нормандских королей. Она рассказала мне свою историю, и я поняла, хотя была еще ребенком, почему всегда чувствовала себя ее любимицей. Она обещала, если ей удастся, найти мне мужа-англичанина, потому что, сами видите, англичане снова входят в силу, и везде можно встретить благородных людей чистокровного происхождения. А если бы у нее ничего не вышло, сулила сделать так, чтобы у меня родился ребенок саксонской крови, которому нужно будет открыть тайну его происхождения и осуществить точно такой же план. После этого, — со вздохом продолжала старуха, — я несла бремя этого знания и своей ответственности, как Чашу Грааля. Но мать умерла, когда мне было десять лет и я еще не была помолвлена. Я не была красивой, как сами видите, и никому не приходило в голову остановить взгляд на моем крестьянском лице, к тому же нас у матери было десятеро, поскольку она, разумеется, уделяла внимание и мужу, поэтому наше приданое никого не соблазняло. Но я была умна и знала себе цену. Однажды вечером, когда за нашим столом ужинал Франсис Аркашонский, я его рассмешила. Он был мрачным человеком, страдал желудком и очень ценил смех, потому что смеяться ему приходилось редко. Наутро он попросил у отца моей руки. Я вышла замуж и переехала в Аркашон, где не было ни единого мужчины-саксонца. Таким образом на мне кончилась эта тщательно поддерживаемая линия. Я родила четырех полукровок, унаследовавших, как полукровки, худшие части имущества, и именно поэтому я здесь. Если бы мне достаточно повезло и я родила бы саксонского ребенка, он выполнил бы свой долг и мне не пришлось бы на старости лет ни от кого зависеть.
— Полно, — возразила я. — Когда у вашего сына все уладится, он вернет в Эспан доходы от маслобойни в Бокаже и права на рыболовство на участке реки Сент-Лорана до Виллено…
«Да, хлебнула бы я хлопот, если бы мне досталось такое хозяйство», — подумала я про себя.
— И тем не менее это зависимость, — проговорила старуха с большим достоинством и очень ядовито. — Потому что от вас зависит, сказать «да» или «нет», когда мой противный маленький метис будет просить вас приютить свою пустоголовую старую мать.
Я подумала, что она, возможно, всегда смотрит на своего полунормандского отпрыска как на противного маленького метиса, третируя его, и именно поэтому ни один из всех четверых не проявляет к ней сыновних чувств. Если бы ей удалось забеременеть чисто саксонским ребенком, она, вероятно, отдала бы ему всю свою любовь, застраховавшись от тоскливой старости. Но говорить об этом сейчас, когда упущено полвека, было слишком поздно. Она очень радовалась и гордилась тем, что преподавала нам английский язык.
— Если вы проживете достаточно долго, а это вполне может случиться, — сказала она, — вас ждут радостные дни. С каждым днем этот язык, который раньше так презирали и недооценивали, распространяется все шире и шире. Я слишком стара и не увижу этого, но настанет день, когда английский язык зазвучит в стенах Вестминстера. На нем заговорят и за морем, его услышат в Руане, Париже и Риме.
Я остановила поток ее красноречия, заметив, что уже слышала его в Акре.
Всю осень мы с Блонделем зубрили английский. Он опережал меня, потому что начал осваивать язык еще в Лондоне и значительно расширил свой словарный запас в походе. Но во мне проснулся дух соперничества, и я сильно продвинулась вперед, а грамматику, по словам Хадлах, знала уже лучше Блонделя.
— Не следует думать, — сердито говорила она, — что если в английском языке стол не «она», а кусок мыла не «он», как в вашем смешном французском, или если в английском слово «дерево» всегда «дерево», когда мы говорим «то дерево», «под деревом», «дерево зеленое», или «о дерево, как ты красиво», в нем нет ни грамматики, ни правил. Они есть. И именно потому, что английский язык не признает несуществующего пола, например, у стола, а про дерево при всех обстоятельствах говорят «дерево», со временем он станет языком всего цивилизованного мира.
Блондель посмотрел на меня, а я на него. Ни один мускул не дрогнул на наших лицах. Мы оставили эту шутку про запас, чтобы потом вволю посмеяться.