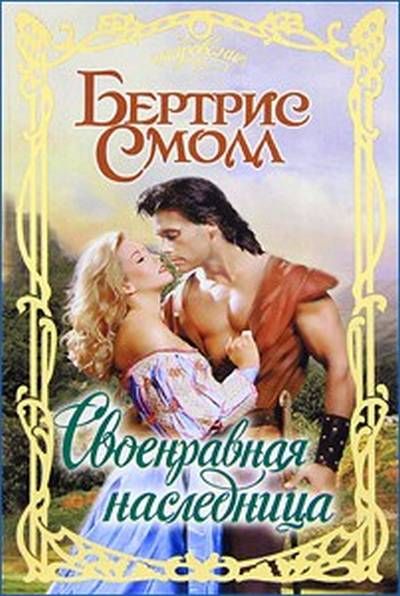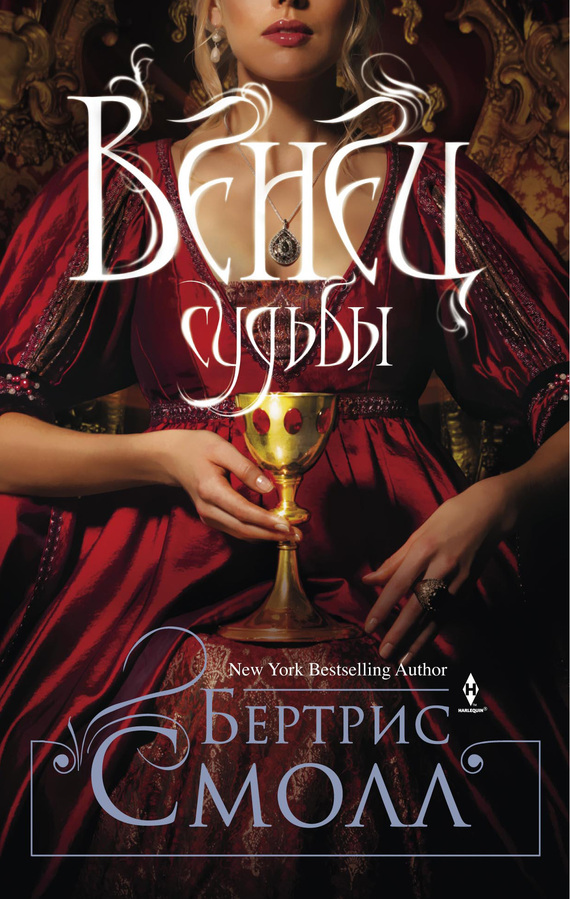14
Желание Беренгарии провести Рождество в Мансе было удовлетворено. Весь двор — вернее компания, настолько близко походившая на двор, насколько это мог терпеть Ричард, — двадцатого декабря двинулся на юг и расположился в мрачном сером замке, господствовавшем над орлеанской дорогой. Я присоединилась к ним двумя днями позднее. А Блондель остался в Эспане, по горло занятый делами, в том числе организацией простых развлечений во время рождественских праздников.
Беренгария встретила меня очень тепло и отвела в небольшую комнатку, которую сама выбрала и подготовила для меня в основании одной из башен.
— Нам нужно место, где мы могли бы иногда бывать одни, и потом я сказала, что ты ненавидишь лестницы. И что тебе ненавистна мысль о том, чтобы спать вместе с этими хихикающими дамами. Все они отвратительны, Анна. Здесь ни одна достойная женщина не задерживается больше чем на месяц; они находят какой-нибудь предлог и исчезают.
Я повернулась и внимательно посмотрела на Беренгарию. Она выглядела так, словно уже начались двенадцать рождественских дней. И она участвовала в увеселениях под покровительством Князя Беспорядка. Ее волосы, которые она всегда заплетала в косу в девичестве и укладывала большим сияющим пучком на затылке после замужества, теперь были тщательно уложены в виде двух скрученных рожков по обе стороны головы. Ее затылок покрывала небольшая, плотно сидящая золотая шапочка филигранной работы с драгоценными камнями, от края которой, покрывая шею и касаясь плеч, спускалась небольшая газовая косынка, также с камнями по кромке. На ней было бархатное платье цвета спелой сливы, очень длинное и так обтягивающее, что для поддержки грудей пришлось вставить клинья материала, и даже при этом под туго натянувшейся тканью ясно обозначались соски. От узкой, плотно зашнурованной талии вниз отходила юбка, сначала чуть расширенная, а дальше плотно облегающая бедра, так что у коленей пришлось сделать разрез, чтобы можно было ходить. В разрезе виднелась нижняя юбка из розового шелка, вся расшитая фиолетовыми цветами и ярко-зелеными листьями. Рукава платья плотно охватывали запястья, где расширялись и ниспадали какими-то фантастическими манжетами, доходившими до кромки юбки, когда она опускала руки. Подкладка манжет была выполнена из той же вышитой ткани, что и нижняя юбка. У туфель из пурпурного бархата были длинные, заостренные носки. Все это было великолепно, необыкновенно красиво и очень модно, но, на мой взгляд, не слишком достойно и не слишком скромно и вряд ли нравилось Беренгарии.
Но я ничего не сказала. Я жила в глухой провинции, замурованная в Эспане, и, уж если говорить правду, на мне было то самое платье, в котором я уезжала из Памплоны, и меня окружали женщины, тоже одетые в стиле прошлого. Высказывать даже про себя суждение о столь утонченной одежде было бы с моей стороны так же глупо и бессмысленно, как тому старику священнику, гневно обрушившемуся в своей проповеди на шнурованное платье, которого он и в глаза не видел.
— Ты выглядишь еще прекраснее, чем всегда, — заметила я.
Она вздохнула.
— Это мне ничего не дает.
— О, дорогая, а я надеялась, что у тебя все хорошо, — лицемерно сказала я, поскольку ее письмо говорило об обратном, и именно поэтому я приехала сюда, а не осталась развешивать по стенам в столовой Эспана вечнозеленые венки.
— Сегодня вечером после ужина, когда все будут поглощены музыкой, выступлениями жонглеров и вином, пойдем со мной, Анна, в собор, а? Ты знаешь… к святой Петронелле.
— Охотно, — согласилась я, опасаясь, что мои сомнения прозвучат в голосе или откроются во взгляде. («Ты выглядишь еще прекраснее, чем всегда». «Это мне ничего не дает… пойдем со мной к могиле святой Петронеллы…» Где-то прервалась связь.)
— Это, наверное, звучит так, будто я спятила, и возможно, так оно и есть — видит Бог, я достаточно поработала над собой. Но, Анна, а вдруг святая Петронелла обладает приписываемой ей силой и будет так добра — я имею в виду, захочет — дать мне ребенка… Разумеется, мне не следовало бы говорить тебе об этом, но ты так хорошо все понимаешь… да и кому другому я могла бы такое сказать? Разумеется, для того, чтобы иметь ребенка, сначала нужно иметь мужа. А то, что святая Петронелла действительно дает людям детей, это очевидно — ведь Бланш забеременела, ты знаешь об этом?
Мною овладела та холодная злость, которая охватывает все мое существо каждый раз, когда я слышу о чудесах, привидениях и других подобных явлениях, причина которых необъяснима.
Допустим, что все это совпадения или просто внутренняя решимость женщины — и что тогда? Сомнение в могуществе святых ведет к сомнению в могуществе Бога. Отрицать, что маленький Гийом, маленький Джеффри, маленький Джон и маленькая Мари Петронелла обязаны своим существованием какому-то особому вмешательству, значило бы погружаться в немерные глубины ереси. Но стоило лишь в это поверить — и слова Беренгарии становились вполне разумными.
— Он спит с тобой? — задала я напрямик вопрос, который всегда был у меня на уме.
— Когда у него нет предлога, которым можно обмануть собственную совесть, то есть когда он не в лагере и не в отъезде, он ложится ко мне в постель. — Горячая розовая волна возникла на краю глубокого декольте и, поднявшись, залила ее лицо. — Не будем об этом. Пойдем со мной вечером. А потом спокойно уснем. О, Анна, как хорошо, что ты здесь…
В соборе не было ни души. Полная тишина и холод напомнили мне посещение собора в Памплоне, когда я, преклонив колена, возносила свои отчаянные молитвы — молитвы, которые так и остались без ответа. Отрицать это не смог бы никто! Но, возможно, человек должен быть более осторожен в своих молитвах. Сегодня я отпустила ее одну в небольшой боковой придел, где покоилась святая Петронелла, а сама осталась в помрачневшем нефе, ограничиваясь обычными молитвами, которые мог бы твердить и попугай, с единственным простым добавлением: «Господи, сделай ее счастливой!»
Время в полумраке, холоде и пропахшем ладаном воздухе шло медленно. Я не должна была проявлять нетерпение, мне не следовало думать о том, что прошел уже целый час и что здесь очень холодно. Но «Господи, сделай ее счастливой». Время всех нас смиряет, питает нас, заставляет скромно принимать крохи и отводить глаза от ломящегося от еды стола, за которым пируют другие. Блондель проектирует маленькие комнаты и оглушает себя вином; я занимаюсь рыболовными правами, сборами с мельницы, налогами на колокола, черпаю радость в его компании и в счастье женщин, которых я приютила. У Беренгарии же нет ничего. Господи, сделай ее счастливой в том единственном, в чем она может быть счастлива.
Наконец я окончательно убедилась, что уже прошел час, и даже подумала о том, что стоять так долго на коленях мне больно и что когда человеку холодно и неудобно, каждое мгновение кажется бесконечным. Скоро я увидела плохо различимую фигуру, обходившую алтарь. Там стало светлее: священник — это был он — зажег новые свечи. Время, должно быть, шло к полуночи. Я поднялась, потерла зазябшие руки и растерла колени, онемевшие от холодного камня.
А потом услышала голос. Голос Беренгарии, донесшийся из бокового придела. Она была слишком далеко от меня, чтобы я могла разобрать слова, но в голосе звучали волнение и тревога. Наверное, священник, сменивший свечи у алтаря, зашел в боковой придел и испугал Беренгарию. Она была храбрейшей из известных мне женщин, когда речь шла о темноте, внезапном шуме, мышах и о том, что Бланко называл «привидениями», но тем не менее под сводами этой огромной молчаливой церкви, в поздний час, да еще в таком холоде, который, по-моему, лишает стойкости духа, даже она могла испугаться. Я быстро заковыляла ко входу в придел и снова услышала ее голос. «Вернись… вернись. Я не сумела тебе объяснить. Если бы ты поняла, то простила бы меня…» Никакой другой голос в ответ не прозвучал.
Я дошла до отверстия в каменной стене, откуда была видна внутренность придела, который, в противоположность мраку, царившему в церкви, был очень хорошо освещен. Я увидела даже букет поздних, схваченных морозом роз, и другой, из падуба, с ягод которого были удалены острые листья. Они были окружены оборкой из белых кружев, лежавших на плоском могильном камне. Там не было никого кроме Беренгарии. Она стояла выпрямившись, устремив взгляд в стену и протянув руку так, словно хотела удержать какого-нибудь прохожего. Я тихо произнесла ее имя. Она повернулась, невыразительно взглянув на меня, и глубоко вздохнула. Потом проговорила: «Анна…» И очень медленно направилась ко мне, я бы сказала, как лунатик, хотя лунатиков мне видеть не приходилось. Я взяла ее за руку и почувствовала, что Беренгарию бьет сильная дрожь.
— Анна, — произнесла она снова мое имя, прежде чем я успела заговорить.
— Я слышала твой голос, — сказала я, потрясенная ее движениями, ее тоном, поздним часом, мраком, непривычной обстановкой и холодом сильнее зимнего.
— Я пыталась объяснить… — сказала она, словно отвергая обвинение. — Но она не позволила мне, не захотела слушать. Она ушла, выпятив челюсть, высоко подняв голову, и я не успела толком ничего сказать. Я поначалу была так ошеломлена, Анна, что не могла найти слов, а когда овладела собой, ее уже не было…
Беренгария говорила несколько громче, чем принято в церкви, и звук ее голоса словно с чем-то смешивался — нет, это было не эхо, а какая-то странная вибрация под высокими сводами большого здания.
Почти окончательно разнервничавшись, я спросила:
— О чем ты? Ты была здесь одна? — Я вдруг догадалась и с огромным облегчением сказала: — Ты уснула, тебе приснился сон. И говорила ты во сне. Пойдем. Уже поздно и страшно холодно. Пошли домой.
Я потянула ее за руку, и она покорно пошла. Мы вышли через огромную дверь и через портик в морозную звездную ночь. Здесь, перед собором, она остановилась, тряхнула головой, словно только что проснувшись, и заговорила:
— Я не спала, Анна. Я видела ее так ясно, как сейчас вижу тебя. Она невысокая женщина, полноватая, с загорелым крестьянским лицом и со шрамом, изуродовавшим одну бровь. Я стояла на коленях и молилась, и тогда появилась она — я еще подумала, как неслышно ей удалось войти, — а потом я посмотрела на ее потрепанный старый коричневый плащ и капюшон и подумала, как странно и довольно приятно, что эта бедная женщина и я оказались там в одну и ту же минуту, моля об одной и той же милости. Затем я решила, что не должна позволять отвлекать мое внимание, и начала молиться снова. А потом… она грубо, сердито начала меня бранить, и я поняла…
Она содрогнулась, а по моей спине снова пробежал тот самый суеверный холодок. И все же это меня не убедило.
Доверчивость — понятие очень непостоянное. Едва научившись читать, я забивала голову житиями святых и чудесами, творившимися святыми. Большинство писателей были монахами, и почти все их книги, естественно, носили религиозный характер, и хотя я была достаточно легкомысленной, чтобы предпочитать светскую литературу, когда могла достать ту или иную книгу, что бывало нелегко, к тому времени я была отлично знакома с историями святых, которых посещали видения, и святых, являвшихся в видениях. И если бы я прочла в какой-нибудь книге, что в одну декабрьскую ночь святая Петронелла якобы явилась какой-то матери в Мансском соборе, я без труда поверила бы в это и продолжила бы читать дальше, без тени сомнения, о том, что сделала или сказала эта святая.
Но читать о чем-то в книге и слушать рассказ о том же самом от человека, которого вы только что видели за ужином, которого хорошо знаете и подозреваете, что он только что немного поспал, — вещи совершенно разные. Именно поэтому все святые и мистики, по-видимому, страдают от цинизма в своем собственном семейном кругу.
Однако, несмотря на мои сомнения, я была любопытна и спросила:
— Почему она сердилась? И что говорила?
— Она сердилась потому, что видела меня насквозь — ведь я молилась не только о даровании мне ребенка. Она сказала: «Сколько еще ты будешь играть этот спектакль? Или думаешь обмануть подлинных святых? Разве я Бог, чтобы оплодотворять девственное чрево?» И тогда я поняла, что эта крестьянская женщина не безумна — потому что во всем мире только я и Ричард знаем — этого не знала даже ты, — что я все еще… И она стала ругаться как мегера и проклинать меня. А потом исчезла прежде, чем я смогла все объяснить и оправдаться. Я была ошеломлена и испугалась; это было… сверхъестественно. Но я взяла себя в руки, и дай она мне шанс, ответила бы ей и рассказала, что я действительно хочу ребенка и что это важно, кроме того, с точки зрения наследования престола.
Да, такова была Беренгария. Видение, которое она восприняла как сверхъестественное, застало ее врасплох, потрясло внезапным натиском, но в какой-то момент ее храбрая кровь воспряла, и она закричала: «Вернись… если ты поймешь, то простишь меня!» Если бы святая Петронелла Толмонтская оставалась воплощенной хотя бы еще мгновение, Беренгария Наваррская с готовностью отразила бы ее атаку.
— Проклятия, — продолжала Беренгария, — были совершенно ужасны!
— Беренгария, дорогая, — вмешалась я снова, — выбрось это из головы. Я по-прежнему считаю, что ты видела сон. Подумай — все это было у тебя в мыслях, когда ты преклонила колени, чтобы помолиться. Святые, явленные в истинном видении — а я читала о сотнях таких случаев, — всегда приносят людям некое откровение, то, что человек не может постигнуть собственным умом ни во сне, ни на яву. Ты понимаешь, что я имею в виду? В том, что тебе привиделось, нет ничего нового, ничего такого, о чем ты не могла бы подумать сама — вплоть до проклятий. Ты, вероятно, чувствовала себя несколько виноватой в том, что просишь ребенка, и на некоторое время уснула, когда молилась, и тебе приснился один из тех коротких «живых» снов, которые часто снятся, когда человек засыпает в непривычном месте… а чувство собственной вины трансформировалось в услышанные тобой во сне проклятия.
— Я хотела бы в это поверить, — тихо сказала она, замедляя шаги. — Но, Анна, это еще не все. Видишь ли, она сказала нечто такое, до чего, могу поклясться, я не додумалась бы и за сто лет. В середине своей тирады она запнулась и рассмеялась, таким грубым, отвратительным смехом… Я могла бы поручиться за то, что живая Петронелла Толмонтская была торговкой рыбой! Она сказала, указав на свою могилу: «Ни одна женщина никогда не преклоняет здесь коленей и не просит тщетно ребенка. Я горжусь своим могуществом и своей репутацией, и ради самой себя, а не ради тебя — ты, обманув мир, замышляла обмануть и небеса — дам тебе один совет. Ты никогда не получишь ребенка от Ричарда, но если сумеешь обмануть и его… У тебя красивое лицо, а вокруг много рослых рыцарей, не так ли?» Анна, совершенно независимо от этой мысли, которая, как ты знаешь, не могла бы родиться в моем мозгу, ее слова убедили меня в том, что Петронелла была реальна. Она была очень обыкновенна, и когда говорила о моем красивом лице, голос ее прозвучал, как голос ревнивой женщины. А слова «много рослых рыцарей вокруг» она произнесла так, словно засиделась на пирушке, глядя на то, сколько людей собралось вокруг той, что еще красивее. О, дорогая, возможно, мне не следовало говорить об этом — она может услышать и разгневаться на меня еще больше.
— Вздор, — отрезала я, а потом задумалась над вопросом: может ли это действительно быть откровением?
Я объяснила Беренгарии, что святая Петронелла не сказала ничего особенного — все это таилось в ее сознании. Она возразила. Но может быть, видение и вправду было? Ведь о некоторых вещах мы думаем, допускаем их в свое сознание, а есть и другие. Запретные, которые прячутся в нашем мозгу и остаются скрытыми даже от нас самих. Было ли это предложение действительно идеей святой Петронеллы, или же о такой возможности, решив обмануть мир, подсознательно подумала сама Беренгария? Вероятно, это просто ее смутная мысль, заползшая внутрь и спрятавшаяся там, а затем при благоприятных обстоятельствах выползшая на поверхность, как червяк из земли после теплого дождя.
— Скажи мне, — спросила я, — ты читала что-нибудь о святой Петронелле?
— Анна, ты же знаешь, что я никогда ничего не читаю! Я знала только то, что ее считают способной делать младенцев. Я вообще впервые услышала о ней от Бланш.
Когда у меня нашлось время прочитать житие святой Петронеллы, я узнала, что она провела молодость в Толмонте, занимаясь потрошением и засолкой сельди и упаковкой ее в бочонки. Я узнала также, что однажды работавшая рядом с нею женщина вышла из себя во время какой-то перебранки и набросилась на нее с ножом. Только прямое вмешательство Бога, как было сказано в этой книге, спасло глаз святой. Но шрам остался до конца ее жизни. В перечне многочисленных достоинств Петронеллы упоминается «честная прямота речи» и «отвращение к обману в любой форме». Это заставило меня засомневаться, кроме того, я, как ни странно, разделяла чувства женщины, которая набросилась на святую Петронеллу с ножом для потрошения селедки!