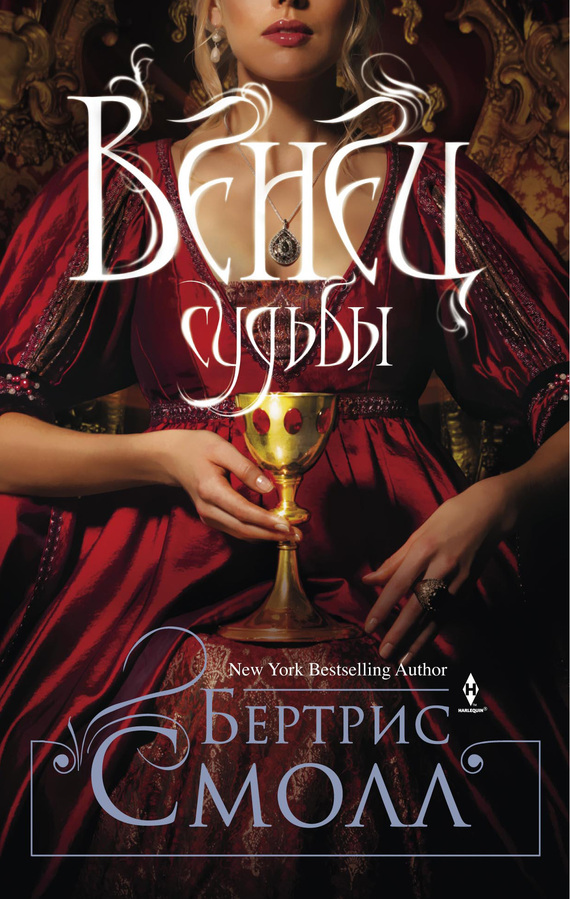6
Когда-то некий изобретательный ум ввел в мир женской моды новинку — «шнурованное» платье. Это не означало, что платье обшивали шнуром, — фасоном предусматривалось, что лиф выкраивали очень узким, и переднюю его часть приходилось делать открытой, чтобы в него могла пройти голова, после чего края разреза стягивали шнуром или лентой, пропущенными через множество небольших отверстий. В результате платье очень плотно облегало фигуру и, в частности, подчеркивало бюст.
Какой-то крупный церковный сановник — кажется, в Париже — был шокирован этой модой и пожаловался Папе, который тут же распорядился провести во всех храмах проповеди против такого нововведения. И однажды воскресным утром в Памплоне мы, никогда раньше не видевшие шнурованного платья и даже не слыхавшие о нем, попали на проповедь, клеймящую «нескромное, чудовищное, совершенно нехристианское устройство, провоцирующее суетное тщеславие у женщин и похоть у мужчин».
Как раз в то время Мария готовилась к свадьбе. Она была помолвлена еще ребенком, видела своего нареченного всего один раз и тогда же была несколько шокирована, обнаружив, что его губы не закрывают зубов. Поэтому ее отношение к этому браку было скорее чисто прагматическим, нежели романтическим, и она мечтала о самом пышном празднестве. Ею овладела мысль о новом шнурованном платье, но никто из нас не имел даже самого отдаленного представления ни о том, как его шьют, ни как оно выглядит.
В понедельник Мария исхитрилась встретиться с пастором, накануне читавшим проповедь, и попросила его объяснить, что представляет собою шнурованное платье, потому что она очень боится по неведению впасть во грех. Несчастному было за семьдесят, и он наверняка никогда не задумывался над фасонами женских нарядов, но, искренне желая помочь Марии избежать невольного грехопадения, указал ей на небольшую гравюру по дереву, присланную ему вместе с инструкциями по составлению проповеди.
На ней был изображен сатана, отец всяческой лжи и обмана, в шнурованном платье, с парой выпирающих грудей, которыми могла бы гордиться любая кормящая мать. Мария взяла гравюру с собой и показала нам, чтобы мы также могли со знанием дела избежать греха.
Если положить большой палец на злобно ухмыляющееся лицо сатаны, гравюра действовала на зрителей самым соблазнительным образом, и я, хотя никак не прокомментировала это, про себя подумала: «Мудро ли это? И добродетельно ли? У нас так много холостых священников, в том числе и молодых. Разве что они не догадаются закрыть лицо сатаны большим пальцем!»
Тщательно изучив гравюру, мы завернули ее, запечатали и поручили Бланко отнести обратно. Мария усадила за работу своих белошвеек, ни одна из которых, разумеется, не видела шнурованного платья даже на картинке. Когда от нее потребовали объяснения, она обратилась к Блонделю.
— Ты можешь его нарисовать? Сумеешь нарисовать платье, хотя бы контур, с отверстиями и шнуром, чтобы представить, как оно должно выглядеть? А о том, чтобы изобразить старого дьявола, — добродушно добавила она, — можешь не беспокоиться.
Блондель, как бывало часто, стрельнул в меня глазами. О, как дороги мне были эти пустячные знаки едва подчеркнутого внимания!
Он принялся за работу и скоро протянул Марии эскиз. По ее словам, это было именно то, что надо. Два других листка он скомкал и бросил два бумажных шарика в камин. Они не попали в огонь, и чуть позже, улучив момент, я вынула их из холодной золы. На одном был изображен сатана в шнурованном платье, но не злобно ухмыляющийся старый дьявол, а нечто немного худшее — он был устрашающим, мстительным, охваченным мукой, словно его пожирало полыхавшее внутри пламя. Картинка эта внушала крайнее отвращение. Другой листок был исчерчен прямыми линиями под разными углами, и сравнить этот непонятный узор было не с чем.
Листок с изображением дьявола я разгладила и положила между страницами книги. Пусть Блондель думает, что он сгорел. Другой листок я прятать не стала. Когда мы в очередной раз оказались одни, я показала его Блонделю со словами:
— Свадебное платье Марии! Она будет прекрасно выглядеть в нем! — Я ожидала, что он рассмеется, и действительно так и случилось.
— Я думал, что он сгорел, — заметил он.
— Но что это?
— Одна идея. Усовершенствованный вариант баллисты. Видите ли, я подумал, что если камень вылетит отсюда, а не отсюда, как обычно, то сила его удара при падении будет гораздо больше. Каждое тело стремится упасть, но у меня это усилие складывается с усилием на блоке, а не противодействует ему. Впрочем, вы, наверное, вряд ли разбираетесь в баллистах…
— Я понимаю, что вы имеете в виду. Вот… — С этими словами я взяла в руки два клубка шерстяных ниток для гобелена и по очереди бросила их, но по-разному.
— Совершенно верно! — оценил он мою догадку.
— Не следовало выбрасывать листок. Я должна показать его отцу. Это действительно новое оружие, и оно обеспечит преимущество перед врагом.
— Могу я взглянуть?
Я протянула ему листок, он глянул на чертеж и коротким движением руки, на которое я не успела среагировать, бросил его в пылающий камин.
— Вы просто глупый мальчишка! — страшно рассердившись, крикнула я, потому что уже представила себе, как отец переведет Блонделя из будуара в оружейную мастерскую и щедро вознаградит. — О, зачем вы сделали эту ужасную глупость?
— Я же думал, что чертеж давно сгорел, — возразил он. — Я начертил его от нечего делать, просто чтобы убить время. Хотелось увидеть на бумаге, правильная ли мысль пришла мне в голову или нет.
— И она оказалась правильной. Это понятно даже мне, полной невежде в таких делах… Ну, да ладно. Вы без труда сможете вычертить все снова. Я убеждена в том, что отец будет в восторге.
— Прошу вас, — снова возразил Блондель, — забудьте об этом.
— Почему я должна отказаться от этой мысли? — упорствовала я. — Свинцовые ядра или крупные камни, пущенные такой баллистой, вызовут большие разрушения, чем старое оружие.
Он вздохнул.
— Кто, как не сам дьявол, обрадуется изобретению, которое позволит пролить больше крови, чем ее проливается сейчас?
— Да не будьте же глупцом. Это законное право любой воюющей стороны.
— А вы уверены в том, что новое оружие окажется в руках справедливого человека, даже если допустить, что вы вправе судить о степени справедливости?
Я задумалась.
— Полагаю, что не всегда. Но отец… война в Арагоне, например…
Он перебил меня:
— Арагонцы считают, что справедливость на их стороне. Иначе они не стали бы воевать. Ни одна нация не начинает войны, не считая ее справедливой. Да это и невозможно.
— Хорошо, ну а что вы скажете о крестовых походах? — запальчиво спросила я.
— Они кажутся нам справедливыми, потому что мы христиане, но я возьму на себя смелость сказать, что те, кто верит в Магомета…
— Будьте поосторожнее! Вас в любую минуту могут обвинить в ереси, — проговорила я с легкой иронией, как говорят с тем, кого любят.
Однако Блондель замолчал и в очевидном смущении посмотрел на свои руки. Смутилась и я, но нашла выход в довольно резком словоизвержении:
— Мне немногое известно о справедливости или несправедливости войн. Но я знаю одно, Блондель, совершенно несправедливо, чтобы человек, обладающий такими достоинствами и знаниями, как вы, прозябал, наигрывая сентиментальные мелодии, мотая шерстяные нитки и рисуя эскизы свадебных платьев.
От гнева его лицо налилось горячей кровью, но он ответил совершенно спокойно:
— Разве мы не молимся о том, чтобы стать такими, какими нас хочет видеть Бог? Может быть, в этом моя добродетель.
— Но бывает и так, что в неразберихе наших представлений мы перестаем отличать волю Божью от собственных помыслов…
Я могла бы говорить еще долго, но в этот момент вошли Беренгария с Марией. Мария держала в руках эскиз Блонделя. Беренгария говорила:
— Но подумайте, как будет ужасно, если из-за вашего платья вас откажутся венчать!
— Не заставят же они меня снять его в церкви? А кроме того, епископ часто играет с моим отцом в карты и, как я слышала, уже должен ему тысячу крон, так что вряд ли он на такое решится. Разве что мать воспротивится… но я ей скажу, что оно пригодится в будущем, когда я буду кормить ребенка.
Может быть, на то, чтобы Блондель слушал разговоры, свидетельствовавшие о том, что на него смотрели как на бесполое существо, и была Божья воля, но моей воли на это не было. И в тот вечер я окончательно решила вырвать его из будуара.
Первым делом я решила заинтересовать его планами строительства моего дома и после того, как мы немного поговорили об этом и он сделал несколько эскизов, сказала:
— Блондель, если принцесса разрешит, согласились бы вы поехать в Апиету и руководить строительством или по крайней мере начать его? Вы понимаете, какой дом мне хочется построить, и как никто другой сможете объяснить строителям, как это делать. — Поколебавшись, я решила сыграть на своих физических недостатках — наверное, впервые в жизни. — Мне самой будет трудно. Я не могу пробираться по участку, натыкаясь на кучи земли, вынутой из траншей под фундамент, или карабкаться по лестнице, чтобы проверить, правильно ли настилают крышу. Мне нужен человек, которому я могла бы полностью доверять.
— Да, конечно. — Он задумчиво посмотрел в пространство и улыбнулся. — Я всегда интересовался строительством. Да, я думаю… да, это, безусловно, лучше, чем мотать нитки.
— Вы будете наделены всеми полномочиями, — продолжала я. — Жить можно в замке, а сделав все распоряжения на день, вы сможете уезжать верхом в лес. Апиета окружена великолепными лесами, полными дичи. Вы сделаете это для меня, Блондель?
— Да, — ответил он, на сей раз совершенно твердо. — Если согласится принцесса.
Я представила себе, как будет прекрасно, когда он наконец займется мужским делом и сердце его забьется по-другому под влиянием новых интересов и перемены обстановки. Дома строятся долго, и к моменту, когда он будет готов, Блондель, может быть, сроднится с ним и, если пожелает остаться в Апиете, я устрою там ферму и предложу ему управлять ею. Он любит лошадей — я арендую знаменитого жеребца у Джейма Альвского и выведу высокопородных жеребят, которые теперь очень ценятся, потому что в них сочетаются резвость, грация и нрав лошадей арабской крови с силой и выносливостью европейской лошади. А потом Блондель женится, и у него родятся дети, а я буду их крестной матерью.
Когда пришла моя очередь расчесывать волосы принцессе, я воспользовалась моментом и постаралась привести Беренгарию в хорошее расположение духа. К сожалению, она заговорила о свадьбе Марии, которая в тогдашних обстоятельствах была для принцессы не самой приятной из тем. Однако мне удалось рассмешить ее своими то смелыми, то глуповато-наивными, а то и достаточно коварными замечаниями, а потом я сказала:
— Беренгария, я хочу кое о чем попросить тебя.
— Я так многим тебе обязана, — по-дружески заметила она, и я заговорила с ней о будущем доме и о желании использовать на строительстве Блонделя. Я подчеркнула, что речь шла лишь о временном его отсутствии.
— Ах, нет, — возразила она, когда я умолкла. — Я не могу без него обойтись. И уже говорила тебе почему.
— Но ведь до Апиеты всего два дня пути верхом на лошади. И это же лишь на время. Он всегда может приехать, если для чего-нибудь тебе понадобится.
— Я хочу, чтобы он оставался здесь. На свете полно архитекторов и строителей, Анна, и притом очень опытных. Найми кого-нибудь из них, и пусть строят твой дом.
Меня взбесил ее отказ, и я чуть не выпалила, что в противном случае Блонделю не избавиться ни от нашего будуара, ни от обаяния своей чаровницы, но такая откровенность оказалась бы фатальной, так как дальнейшие мои попытки выглядели бы подозрительными, и я хорошо понимала, что в случае первой неудачи буду возвращаться к этой теме снова и снова и не успокоюсь, пока не вырву его отсюда. Я не отказалась от надежды отправить его в Апиету, что было бы наилучшим выходом, потому что я сохранила бы с ним контакт и, возможно, когда-нибудь присоединилась к нему. Словом, я уперлась. Я ведь тоже могла быть упрямой.
Я попыталась было ее убедить, но потом, понимая, что мы обе просто повторяемся, положила головную щетку на место и сказала:
— Если ты будешь такой эгоистичной и глухой к моим просьбам, то, когда отец в следующий раз захочет выдать тебя замуж, я не скажу в твою защиту ни единого слова. А отец очень считается с моим мнением. — И это было не хвастовство, а чистая правда.
— Не стоит беспокоиться, Анна. Я либо выйду за Ричарда, либо останусь незамужней, и что бы ты ни сказала или о чем бы ни умолчала, мне совершенно безразлично.
Ее слова снова разозлили меня.
— Полагаю, ты понимаешь, что стоит мне лишь открыть вот эту дверь и рассказать о том, что мне известно, как ты станешь посмешищем для всего христианского мира.
— О, Анна, — мягко проговорила она, — если бы я могла обойтись без Блонделя, я согласилась бы, ты это знаешь и понимаешь, почему я не могу на такое пойти. Что изменит твоя угроза?
Внезапно я поняла смысл того, что часто оставалось для меня загадочным, когда я читала о мучениках. Беренгария была превосходным материалом, из которого делают мучеников. Для этого не обязательны ни великая святость, ни мистицизм, — достаточно лишь безграничного упрямства. Я вполне могла себе представить, как в нероновском Риме она сказала бы: «Я христианка, и какая мне разница, что делают эти львы?» И не удивительно, что мученики так часто подвергались гонениям! Клянусь Богом, я с удовольствием стала бы гонителем Беренгарии. Мне хотелось лупить ее по голове щеткой для волос, взять за плечи и трясти, пока она не застучит зубами. Но я снова наступила на горло своему нраву и довольно ехидно проговорила:
— Послушай, я обещаю, что если магическая сила увлечет тебя в яму, я приведу Блонделя и вручу ему букет, чтобы он с помощью той же магической силы извлек тебя оттуда.
— О, я понимаю, это звучит смешно. Но я чувствую себя в полной безопасности, только когда он рядом. Тот сон был вещим, мальчик пришел, и я его узнала. Случись пожар, наводнение или еще что-то подобное, спасти меня сможет только он. А раз так, я была бы просто дурой — разве нет? — позволив ему уехать в Апиету строить какой-то дом, который с тем же успехом может построить любой другой.
Я понимала, что надежда убедить ее бесполезна, и, к моему огромному огорчению, почувствовала, как глаза наполнились слезами бессильной ярости.
— Ну, что ты, Анна, — добрейшим голосом проговорила Беренгария, — почему ты принимаешь это так близко к сердцу? Какая разница, кто строит твой дом? И почему бы тебе не построить его здесь, в Памплоне? Тогда он вполне мог бы следить за строительством.
— Положим, это мой каприз! Тебе это должно быть понятно. Почему каждая твоя прихоть немедленно исполняется? Я хочу, чтобы мой дом был в моем собственном герцогстве, и хочу, чтобы его строил Блондель. Он умен, изобретателен и мог бы отлично его построить. Но нет, из-за твоего сновидения под действием маковой настойки он обязан оставаться здесь и мотать шерстяные нитки, словно более подходящих занятий для мужчины нет.
— Блондель не мужчина. Он просто поющий мальчик.
Услышав это, я поняла, что мне лучше уйти, чтобы не сказать чего-нибудь такого, о чем я потом пожалею.
Впоследствии, когда я достаточно успокоилась, чтобы все обдумать, и меня больше не слепила ярость при воспоминании о голосе Беренгарии, произнесшей эти слова: «Блондель не мужчина», я поняла, что хотя и потерпела поражение, но усилия мои пропали даром. Да, теперь я кое-что поняла! Как глупо, что я не подумала об этом раньше. Чтобы вытащить Блонделя из будуара, можно придумать ему поручение, каким-то образом связанное с ее сном, и если его удастся связать с ощущением, что сон сбывается, она охотно отправит своего менестреля хоть на край света. И я мобилизовала всю свою изобретательность…
Рассказав Блонделю о провале моей попытки «позаимствовать» его у Беренгарии, я поняла, что он ощутил одновременно сожаление и облегчение. Мотылек, залетевший в рукав человеку, старающемуся выпустить его оттуда в опасной близости от горящей свечи, вероятно, испытывает благодарность, оказавшись на свободе, но это может кончиться довольно печально.