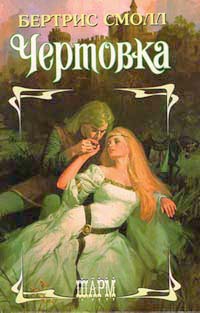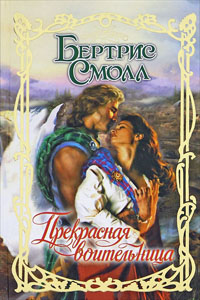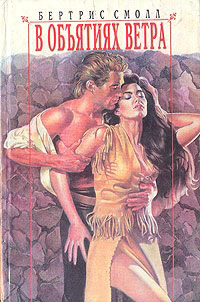13
Следующие три дня я провела в обстановке, научившей меня кое-каким прелестям заточения, и поняла, как чувствует себя прокаженный. В нашу комнату не входил никто, кроме Ахбега, и я ловила себя на том, что страстно ждала его посещений, хотя он, решительно не одобряя эту затею, был угрюм, груб и демонстрировал достойное сожаления отсутствие интереса к своей пациентке. Сменявшие друг друга пары пажей были постоянно наготове, но всегда боялись, что им что-нибудь поручат, и убегали в дальний конец коридора, стоило мне лишь открыть дверь нашей импровизированной больничной палаты. Часто, изображая особое рвение, они улетучивались, не дослушав того, что от них требовалось.
Первые два дня пожираемый тревогой отец подходил к двери и спрашивал, как дела, но потом услужливые придворные доброжелатели посоветовали ему не подвергать себя опасности, и с тех пор, поддерживая нашу версию, он обретался поодаль.
Берентария же, едва пришедшая в сознание, сразу принялась плакать. Она плакала и плакала, почти непрерывно.
— Почему вы не дали мне умереть? Я так мечтала об этом! — твердила она мне не меньше сотни раз.
Как и ожидал Ахбег, рана ее не загноилась. Не было у Беренгарии и жара, но я предпочла бы обслуживать шестерых больных настоящей чумой, чем одну ее. Она отказывалась есть, не могла уснуть и лишь плакала и плакала.
Заговаривала она со мной лишь изредка. Судя по всему, отец сказал ей о том, что Ричард отправляется в Англию, а после Пасхи, вероятно, состоится свадьба; это известие, естественно, привело ее в отчаяние, вызвавшее сумеречное состояние.
— К чему мне есть? — спрашивала она, отталкивая в сторону все, что я предлагала. — Чтобы остаться живой? Что в этом хорошего? Мне незачем жить.
Если ей действительно не суждено полюбить другого человека, то смысла в ее жизни было не больше, чем в моей. Теперь она находилась в том же положении, что и я в тринадцать лет. Но я любила книги, интересовалась всем, что происходило в мире и с окружающими меня людьми. Мне нравился уют, в котором я жила. Я мечтала о строительстве дома. Я находила что-то любопытное даже в смене времен года, в изменениях погоды. Однако говорить о таких эфемерных радостях женщине в состоянии душевного не покоя — все равно что предлагать конфетку несчастному, с которого содрана кожа. Поэтому я просто давала ей выговориться, а сама молчала. Хотя нас было двое, я, как, вероятно, и она, чувствовала себя словно в одиночном заключении. А черепа, в которых роились наши мысли и чувства, были одиночными камерами нашей тюрьмы.
Разумеется, случались минуты, когда мы с нею общались.
Однажды она спросила, почему с нею только я и где все остальные. Я объяснила ей, в чем дело.
— Много шуму из ничего. По мне, пусть хоть весь мир узнает, что я скорее перережу себе горло, чем выйду за нелюбимого.
— Но не сейчас. Позднее ты изменишь свое мнение. И потом, подумай об отце. На него смотрели бы, как на толкнувшего тебя на самоубийство.
— Его чувства не в счет. Он слишком жесток. Если он намеревался сам найти мне мужа, ему следовало сделать это, когда я была еще ребенком. Ждать столько времени, чтобы потом орать на меня, убеждая в том, что я должна выйти замуж за этого Исаака или остаться старой девой, потому что Ричард все-таки женится на Алис, — какая жестокость… — И она снова разразилась слезами.
Любой разговор кончался одним и тем же.
Неожиданно, на четвертый день моего заточения, в Памплону ворвалась весна. Через узкие неприветливые окна небольшой отцовской комнаты проникло солнце и легло на пол золотым узором. Я забралась на высокий каменный подоконник и долго смотрела на Памплону. За несколько последних дней почки деревьев в парках и фруктовых садах постепенно налились, готовые к пышному цветению, и под теплым солнцем этого утра робко и осторожно развернулся каждый лепесток нежных цветов. Бело-розовые цветы персиковых, сливовых и вишневых деревьев пенились и трепетали в лучах утреннего солнца, а вдали виднелись предгорья Пиренеев, уже покрытые недолговечным зеленым ковром.
Я вспомнила о Блонделе. Там, на севере, земля еще скована холодом, но и туда скоро придет весна. Он увидит первое дерево в цвету, подумает о Беренгарии и вновь познает муку любви — в этом году еще будет так, а в следующем цветущее дерево подскажет ему какое-то другое имя…
Я никогда не могла объяснить даже себе самой, почему так упорно недооценивала его постоянство. Я прекрасно понимала, что и на будущий год, и каждый год до самой смерти буду думать о нем, увидев что-то привлекательное, услышав прекрасную музыку, встретившись с чем-то радостным и интересным, что он мог бы разделить со мною. Какой эгоисткой я была, думая, что пылкая влюбленность Блонделя излечима, что Беренгария стала жертвой неразумной, упрямой фантазии и что только одна я по-настояшему влюблена!
Прошло еще два тихих дня, и я впала в панику. Я была недостаточно строга или ненаходчива, чтобы успешно следовать примеру Матильды, ухаживавшей за безумной королевой, и разжимать рот Беренгарии бельевой прищепкой, заставляя ее проглотить бульон, глоток поссета или вина. Никакие уговоры, никакие внушения не могли убедить ее в необходимости принимать пищу. Если я слишком настаивала, она просто отталкивала меня, и все, что я ей предлагала, выливалось на одеяло. С каждым днем ее лицо, словно сжимаясь, становилось все меньше и меньше, а кожа — все более серой, руки казались хрупкими, как старые пересушенные палки. От голода, слез и бессонницы состояние Беренгарии стало почти критическим, и, глядя на нее, я чувствовала себя виноватой и глупой. Наспех придуманный план сохранения ее тайны и душевного равновесия отца, а также избавления от киприотов теперь казался бессмысленным, опрометчивым и ребяческим. Дальше так продолжаться не могло, и в то утро я сказала вошедшему Ахбегу:
— Пора заканчивать эту историю с чумой. Принцессе необходимы более широкое общество и лучший уход, чем тот, на какой я способна. Если вы снимете повязку, я пойду к королю, и сможет объявить, что его дочь здорова.
Ахбег перевел на меня молочно-белые старческие глаза, полные явного злорадства.
— Милорд король изложил свой план и изъявил свою волю, и из чувства долга я поддержал его, а из благодарности согласился участвовать в этом… маскараде, изображая из себя дурака, не понимающего разницы между чирьем и смертельным чумным бубоном. Что ж, кончайте спектакль, чтобы единым словом уничтожить мою репутацию врача. Смейтесь, сколько вам угодно. Но помните: тот, кто смеется над знанием, смеется над Богом, и не будет тому благословения.
Как бы ни безразличен мне был старый лекарь, его слова усугубили мое ощущение собственной глупости и вины. Я не подумала о его профессиональной гордости, а если бы задумалась над этим, решила бы, что он живет настолько уединенной, замкнутой жизнью, что ему давно безразлично общественное мнение. Однако даже в этом мрачном, грязном, одиноком старике, по-видимому, еще жило тщеславие.
— Мне очень жаль, Ахбег. Когда это случилось, нам пришлось думать и действовать быстро. Теперь я понимаю, что наш план плох. Сказать по правде, мне очень стыдно за себя. Я оказалась дурной сиделкой, не умевшей уговорить больную проглотить хоть кусочек размоченного в молоке хлеба!
— У вас не было репутации, которую можно потерять.
— Была. Король верил мне так безгранично, что предоставил возможность одной ухаживать за нею. И вот что из этого вышло…
Когда он снял пластырь, я увидела рану — чистую, сухую, хорошо зажившую.
— Теперь, кроме более веселой компании, и няньки, которую она слушалась бы, ей ничего не нужно, — заметил Ахбег.
Он был прав. Но такое бодрящее общество будет состоять из тех, кто не знал ее тайны, а со мной ей не приходилось делать усилий, чтобы скрывать страдания и боль. Но я не стала высказывать своих соображений по этому поводу.
Ахбег склонился над постелью и посмотрел на Беренгарию. Никогда ни один врач и ни один пациент не смотрели друг на друга с таким полным отсутствием интереса и доверия.
— Я откладываю объявление об ошибке еще на два дня, — сказал он, спрятал руки в рукава и пошел к двери.
— Не могу я на это решиться, — возразила я, вставая между ним и дверью. — Я твержу вам, что за шесть дней она ничего не съела, а вы не обращаете на мои слова никакого внимания. Вы что, не видите, как она исхудала? Если ждать еще два дня, а состояние принцессы не улучшится…
— …то она умрет, — спокойно закончил он фразу. — А поскольку предполагается, что я диагностировал чуму, все будет логично, и мне не придется стыдиться…
Я смотрела на него, потрясенная, не веря своим ушам. Ахбег хочет, чтобы она умерла!
Паника, охватившая меня с самого утра, достигла высшей точки. Я быстро шагнула к двери, открыла ее и громко окликнула дежурных пажей.
— Отыщите его величество. Где бы он ни был и что бы ни делал, пусть немедленно идет сюда. Ну, быстро, бегом!
Пажи помчались со всех ног от чумы, готовой, как они думали, погнаться за ними из двери за моей спиной, от моей одежды, от волос и от самого моего дыхания.
Отец переодевался из домашней одежды в охотничьи штаны и куртку. Он схватил плащ, накинул его прямо поверх рубашки и подштанников и в таком виде, с всклокоченными волосами и нечесаной бородой, предстал перед нами.
— Что случилось, что случилось, Анна? Ей лучше? Хуже?
Я поймала себя на том, что вцепилась в его руку и сбивчиво заговорила, как испуганный ребенок.
— Беренгария отказывается от еды, она ничего не ела уже шесть дней, и все плачет и плачет. Она совершенно истощена. Я больше не могу, отец. Матильда наверняка заставила бы ее есть, а вы или кто-нибудь еще смогли бы развеять ее мрачное настроение. Я пробовала по-всякому, отец, пыталась делать все, что могла, но больше не в состоянии оставаться одна и смотреть, как она тает на глазах.
— Бедное дитя, ты переутомилась и переволновалась, — сказал отец, поглаживая мне руку и одновременно освобождаясь от моих вцепившихся в него пальцев. — А, здесь и Ахбег. Хорошо. — Он мягким шагом подошел к постели, посмотрел на Беренгарию и отшатнулся. — Боже правый! — вполголоса проговорил он. — Что с тобой стало, сердце мое! Почему ты отказываешься от еды? Розочка моя, ты должна поесть. Даже если от этого больно твоему бедному горлу. Ты худеешь, таешь на глазах и скоро перестанешь быть моей красивой девочкой. Взгляни, Анна приготовила хлеб в молоке, сладкий и мягкий, и я сейчас тебя покормлю. И ты станешь сильной и храброй, как и подобает дочери солдата. Розочка моя, если ты съешь его, я награжу тебя орденом Серебряной Шпоры. Обязательно. Обещаю тебе. Ты будешь первой и единственной женщиной, удостоенной его.
Я не обещала ей ордена — это было не в моей власти, но говорила с нею примерно так же. И она отвечала точно так же — закрывая глаза и отворачиваясь к стене. Но он сделал одну вещь, до которой я не додумалась.
— Дорогая, если бы ты только посмотрела на себя! Ты худа, как осел лудильщика. Анна, дай мне зеркало. Как, здесь нет зеркала?
Принесли зеркало, и он поднес его к лицу дочери. Но Беренгария не была любительницей смотреться в зеркало, если только не требовалось взглянуть на новую прическу или на то, как сидит новое платье.
Наконец и отец потерпел поражение. Он встал с колен с почти таким же серым лицом, как у Беренгарии, и подошел к Ахбегу.
— Ты пытался что-нибудь сделать? Причина в ране? Или в шоке? Или это… Бог мог быть более милосердным! Такая красивая, такая любимая! Господи! Разве одной тебе недостаточно? В чем я провинился, чтобы наказывать меня дважды? — Он опустился на табурет, старый, посеревший, дрожащий человек с трясущимися головой и руками. Прежде чем я успела подойти к нему и что-то сказать, заговорил Ахбег.
— Она умрет, сир. Ей сейчас не больно. Она всегда хорошо питалась, и рана отлично заживает без повторного вмешательства. Но чтобы поправиться, у больного должна быть воля к жизни, а у принцессы ее нет. Наоборот, она сама желает умереть. В таких случаях надежды не остается.
Самое кроткое животное, попавшее в ловушку и сведенное с ума болью, будет пытаться противиться освобождающей его руке. Отец был именно таков. Он встал, навис всей своей массой над Ахбегом и закричал:
— Воля к жизни? Никогда слышал подобной чепухи. Мерзкая черная магия, бессмыслица! Как бы не так, я сам видел тяжело раненных людей, умиравших в страшных муках и моливших Бога послать им смерть. Они просили товарищей прикончить их, чтобы избавиться от мучений. По-твоему, у них была воля к жизни? Конечно, нет, но тем не менее многие из них живы до пор. — Его отчаяние сменилось яростью. — Ты служишь мне, чтобы укрыться от ответа за свои темные дела, все эти годы морочишь нам голову, называешь себя врачом, а когда не справляешься с болезнью, обвиняешь больного! Покажи-ка нам эту рану, которая так хорошо заживает, что моя дочь не может проглотить ни кусочка хлеба.
Без единого слова старик склонился над Беренгарией и длинным кривым черным ногтем указательного пальца поддел ссохшийся пластырь. Принцесса молча смотрела перед собой. Когда Ахбег потянул конец нитки шва и она не поддалась, Беренгария даже не вздрогнула от боли.
— Нитка еще не перепрела, — проговорил он.
На шее принцессы был едва заметен четкий, совершенно чистый, небольшой красноватый шрам.
Отец был посрамлен.
— Я вызову всех врачей Наварры! — кричал он. — Пошлю в Вальядолид за Эсселем, лучшим врачом в мире. Слышишь, сердце мое? Я приведу к тебе Эсселя, он поможет тебе в мгновение ока. И ты скоро снова будешь здорова!
— Можете посылать за Эсселем, сир, и за кем угодно, чье имя придет вам в голову, а я позову Матильду, — прервала я его, — она будет лучшей сиделкой, чем я.
— И пришли сюда ее дам и музыканта — ей нужно встряхнуться, отвлечься от своих мыслей… — Отец со страхом взглянул на постель. — Ты будешь жить! — проговорил он, полный решимости.
Ахбег вынул из сумки чистый белый бинт.
— Чему быть, тому не миновать, — проговорил он. — Чтобы ублажить милорда, я пожертвовал своей репутацией и в награду за это лишился его доверия. Но король поймет, что воля к жизни — нечто большее, чем простая комбинация слов.
Ахбег стал сосредоточенно бинтовать шею Беренгарии, обращаясь с ней как с неодушевленным предметом. Закончив свое дело, он вышел из комнаты, шаркая ногами. Наверное, я была последней, кто его видел или говорил с ним. Тремя неделями позднее, теплым днем, кто-то с необыкновенно чутким носом проходил мимо конуры Ахбега в Римской башне, кто-то другой, падкий до происшествий, заглянул внутрь, а еще кто-то, слишком привыкший к порядку, вытащил тело неверного и зарыл его в землю между мастерской и конным двором, где обычно, с куда большими почестями, хоронили любимых отцовских собак. Что ж, он был стар и немощен — готовая добыча для смерти, но я могла отделаться от мысли о том, что жизнь старого лекаря без дорогой его сердцу репутации и без доверия отца потеряла цель и он подтвердил точность своего последнего диагноза.
Остальная часть дня прошла в странной, нереальной обстановке. С заменой лжи о чуме ложью о нарыве комната отца из палаты прокаженной превратилась в гудящий улей. Весь день туда-сюда сновали люди, несли подарки и цветы, поздравляли, сочувствовали, рекомендовали способы лечения, вспоминали подобные случаи в прошлом и схожие врачебные ошибки, жертвой которых им довелось стать или о которых они слышали. И никого, казалось, не занимала апатия, в которой пребывала их принцесса. «Рада видеть, что вам намного лучше», «Поправляйтесь поскорее», — говорили бесчисленные посетители.
Но в их присутствии она по крайней мере не плакала.
Единственной, кто не разделял всеобщего чувства облегчения и оптимизма, была старая Матильда. Узнав, что ее принцесса заболела, преданная старуха выразила готовность ухаживать за нею, и я, конечно же, была бы рада обществу, помощи и поддержке опытной женщины: спокойная и здравомыслящая, Матильда была сама преданность и скорее умерла бы под пыткой, нежели позволила бы себе сказать лишнее. Но она любила выпить, и я сама слышала, как в подпитии она выбалтывала тайны, которые доверяли ей в далеком прошлом. Поэтому я отказалась от ее услуг, что очень обидело старуху. Теперь же, когда ее допустили к принцессе, она в отместку постоянно на меня нападала: увидев не очень свежую постель, возмущенно вопрошала, почему больная принцесса лежит в грязи, как последняя деревенская девка; роясь в книгах, которыми я пыталась убить скуку долгих часов уединения, дивилась тому, как я могла ухаживать за больной, уткнувшись в книгу. А Беренгарии говорила так:
— Теперь с вами Матильда, мой ягненочек. Матильда о вас позаботится. Матильда даст вам чашечку поссета, который отведет вас от края могилы…
Я всем сердцем надеялась на то, что ее поссету повезет больше, чем приготовленному мною.
Вошла Пайла в сопровождении двух пажей, тащивших свернутый в рулон гобелен.
— Мы подумали, что вам будет приятно взглянуть, насколько продвинулась наша работа…
Я выскользнула из комнаты, велела приготовить себе горячую ванну и с таким чувством, словно и впрямь вышла из чумной палаты, помылась и надела чистое белье. Потом я немного погуляла под лучами радостно сиявшего солнца и, найдя на земле последнее сморщенное яблоко, отнесла его медведю Блонделя. Но даже тогда, даже думая о Блонделе, я не могла избавиться от мучительной тревоги, и скоро со смешанным чувством облегчения и любопытства снова перешагнула порог комнаты, где лежала больная.
Посетителей больше не было, и с Беренгарией сидела одна Матильда. По ее лицу я сразу же все поняла — оно было распухшим, со следами недавних слез.
— Увы, слишком поздно! Если бы меня позвали раньше, я бы ее вылечила. Я так старалась… — Ее рука скользнула в карман. Под тканью вырисовывались контуры бельевой прищепки. — Я пыталась применить старый способ, но когда влила ей в рот немного поссета, ее тут же вырвало. — Матильда отвернулась и снова заплакала.
Я склонилась над свежей чистой постелью. Беренгария лежала с закрытыми глазами. Стеганое одеяло едва приподнималось от ее дыхания. Она казалась мертвой.
— Она лежит так уже целый час, — сквозь слезы пробормотала Матильда. — Надо сказать его величеству… и послать за священником.
Я стояла, не отрывая от сестры глаз. Как страшно, непостижимо, противоестественно! Я так боялась этого, так надеялась, что Матильда… веселая компания… Но Беренгария умирала. Все песни и баллады заканчиваются одинаково: «И она умерла от любви». И это логично, романтично и предсказуемо. Но в реальной жизни — в настоящей, действительной жизни — это выглядит необязательным, смешным и отвратительным, потому что смерть, даже смерть красивой девушки и даже смерть от любви, видеть невыносимо.
А потом мне в голову пришла странная мысль. Матильде удавалось с помощью своей прищепки поддерживать жизнь королевы Беатрисы, пока периоды помрачения ее рассудка не стали повторяться гораздо чаще, чем короткие просветления. Так стоила ли овчинка выделки? Если верить Матильде, мать Беренгарии сошла с ума после отказа отца взяться за оружие на стороне Кастилии. Ее дочь помешалась явно из-за помолвки Ричарда Плантагенета с Алис.
Я снова подумала о смерти — об ее холоде и гнусности, о том, что смерть — это последний и непобедимый враг, чьей добычей все мы в конце концов становимся, но с которым вынуждены бороться до самого конца. Никому не дано сказать ей: «Возьми меня!» И никому не дано сказать эти слова, глядя на то, как последнюю черту переходит любимый человек.
Любимый человек?
Любила ли я Беренгарию? Когда-то я страстно ненавидела свою единокровную сестру, завидовала ей, а потом прониклась к ней жалостью. Но никогда до этого страшного момента не понимала, что она дорога мне — и нужна; что ее смерть затмила бы мне свет солнца. Я только теперь поняла это. Я вспоминала все, даже самые незначительные ее достоинства: смелость, неизменно хорошее настроение — в христианском мире не было более счастливого двора, пока она не влюбилась, — отсутствие тщеславия и гордыни несмотря на неземную красоту и высокий титул, манеру тонко реагировать на происходящее и ее всегдашнюю доброту ко мне. Неужели всему этому — и ее несравненной прелести — суждено провалиться в мрачную бездну, уйти в невозвратимое прошлое?
— Матильда, — окликнула я старуху, — приготовьте новый поссет, покрепче и повкуснее. Положите в него все, что можно. Ступайте и делайте, что я говорю!
Как только она вышла, я встала на колени рядом с кроватью, приникла к уху Беренгарии и произнесла приготовленную ложь:
— Я получила письмо от Блонделя. Про Ричарда. Диагос ошибся! Он не женится на Алис. Ты слышишь меня, Беренгария? Ричард не женится на Алис. Так написал Блондель.
Как бы далеко от меня ни была она в ту минуту, мои слова до нее дошли. Большие глаза в глубоких глазницах раскрылись и пристально посмотрели на меня.
— Блондель, — повторила я. — Письмо. Ричард не женится на Алис. Слышишь? Ты понимаешь, что я говорю?
Если бы кровь пышашего здоровьем человека каким-то чудом могла бы перетечь в вены смертельно раненного, истекающего кровью воина, то это зрелище было бы подобно тому, что я увидела. Ахбег был прав — воля к жизни вполне реальная сила. На моих глазах к Беренгарии возвращалась жизнь.
— Повтори, — прошептала она.
Я повторила. И потом еще раз десять, снова и снова. А затем сказала:
— Матильда готовит тебе поссет. Ты ведь выпьешь его, да?
— Что произошло? Приехал Блондель?
— Нет. Я получила письмо.
— А что за известие?.. Ему можно верить?
— Вполне. Но это секрет. Пока нам следует молчать — до его приезда.
— Ричард не женится на Алис?
— Совершенно верно. Ну, а теперь помолчим. Сейчас тебе принесут посеет, ты выпьешь и сразу почувствуешь себя лучше. А вот и Матильда.
О, Бог-отец, Бог-сын и Бог-Дух святой, в чьих руках жизнь и смерть, ты тройственный в одном лице и единый в трех лицах, прости мне эту великую ложь, с которой я вторглась в твои владения. Я не могла дать ей умереть, но спасти ее могла только ложь!
В комнате уже звучал голос Матильды.
— Мой ягненочек, сладкая моя девочка… — говорила она своей любимице, поглядывая на меня как на колдунью.
Беренгария сделала слабую попытку потянуться в постели, словно новорожденный теленок. Она не оттолкнула поссет и открыла рот в ожидании ложки, которую уже подносила Матильда.
Я стояла поодаль, с болью осознавая содеянное мною.