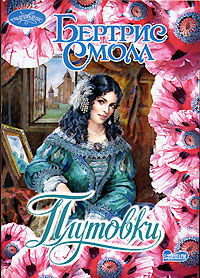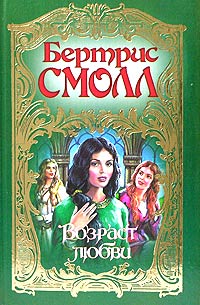О книге
Ах, как ярко светило солнце в тот майский день, когда Беренгария, принцесса Наваррская, ехала на свидание со своим женихом Ричардом I, королем Англии. Как безоглядна и самоотверженна была ее любовь, какие грандиозные строились планы, какой безоблачной казалась жизнь. Но Бог не создал Ричарда Львиное Сердце, доблестного героя Третьего крестового похода, чувствительным к женщинам… Это роман о подвиге беззаветной любви и величайшего смирения, о неистовом служении идее и неотвратимости судьбы, о сильных мира сего, бывших всего лишь простыми смертными.
Бертрис Смолл
Разбитые сердца
Часть первая
СТРАННИК БОЖИЙ
1
Эту часть истории рассказывает менестрель Ричарда I. Тогда его все звали Эдвардом и был он послушником Горбалзского монастыря в Бургундии. Событие, которое здесь описано, случилось ранней весной 1188 года.
— Еще одна стая волков, — сказал брат Лоренс, когда мы, повернув вместе с дорогой, увидели небольшую группу голодных людей.
По-моему, намного приятнее было бы встретиться со стаей настоящих, четвероногих волков. Отношение человека к волчьей стае определяется очень просто: кто-то испытывает отвращение, кто-то боится, один нападает и рассеивает ее, другой в ужасе обращается в бегство. Тут не до жалости. А я вот уже три дня был настолько измучен жалостью и находился в таком смятении от невозможности помочь тем, кого жалел, что теперь, глядя на преградивших дорогу нищих, подумал, что мне было бы гораздо легче, сохранив спокойствие, позволить волчьей стае растерзать себя на куски, нежели пережить повторение сцен, происшедших в Вибрэ и Армише.
— Проснись, мальчик, — проговорил брат Лоренс и шевельнул левой ногой, — легкий удар стремени пришелся мне как раз по плечу. — Слушай и как следует запомни, что я скажу. Пожалуйста, без истерики, прошу тебя. Она ничего не дает и производит очень скверное впечатление. Я отдам им все, что осталось в сумке от подаяния молящихся, и пойду своей дорогой. С меня довольно твоих бессмысленных выходок. Запомни, голодные люди опасны.
Я повернул голову, посмотрел на него, и в этот момент он, отведя глаза, уставился прямо перед собой, однако я успел уловить выражение его лица — почти злорадное, — с которым он только что меня рассматривал. Причиной этого было, разумеется, мое поведение в последние три дня. Когда-то в прошлом я наблюдал травлю медведя и видел на лицах некоторых зрителей то же самое выражение — злорадную улыбку, с весельем, жестокостью и каким-то расчетливым ожиданием: чем это кончится? Я внутренне собрался, чтобы на сей раз не выдать своих чувств и не доставлять ему удовольствие. Брат Лоренс передвинул сумку с подаянием, висящую на поясе, в более удобное положение, чтобы она была под рукой, и лицо его приобрело выражение серьезного, отстраненного созерцания. Мы приближались к кучке попрошаек. Я хромал из-за волдыря на пятке и двигался чуть согнувшись, чтобы унять боль в пустом желудке, а мысли в голове носились взад и вперед, напоминая о событиях трех последних дней и приводя меня в ужас в предвидении приближающейся встречи.
Было очень странно чувствовать ненависть к брату Лоренсу. Всего три дня назад я восхищался им, относился к нему с поклонением, которого не мог не испытывать юноша по отношению к старшему, так преуспевшему в искусстве, бывшем предметом его чаяний. Наутро после Благовещения брат Лоренс стал для меня человеком, посвятившим четыре дня своей жизни изготовлению несравненной копии Евангелия от святого Иоанна. Теперь эта рукопись лежит в библиотеке Горбалзского монастыря, являя собою предмет вдохновения и одновременно отчаяния для всех честолюбивых молодых писцов. Заезжий кардинал как-то сказал, что ни в Риме, ни в Кассино ничто не может сравниться с этим произведением. И его слова не казались слишком преувеличенным комплиментом. Одна страница — открывающая третью главу — выглядела так, будто на ней забыли живую ветку дикой розы: настолько совершенно были прорисованы каждый лепесток, каждая тычинка и каждый шип. Сильные, но гибкие стебли будто поднимались вверх, воплощая в себе связь между землей, из которой они росли, и предвкушаемым ими небосводом. Цветы были хрупкие, живые, тронутые мазками каких-то нездешних красок, названия которых известны лишь в раю.
Под свежим впечатлением от этого очаровательного произведения, выполненного пером и кистью, которыми водила рука человека, мне случалось видеть брата Лоренса то проходившего по монастырской галерее, то сидевшего за столом в трапезной — импозантного, тихого и довольно полного человека, ничем не примечательного и не отличавшегося от других, и все же я смотрел на него с благоговением и восхищением, понимая, что стоит ему заговорить со мной, как я стану потеть и заикаться.
На следующий день Благовещения, в послеобеденный час, я работал в южной галерее, усердно выводя одно за другим слова собственной жалкой рукописи, и вдруг на ее страницу пала тень. Быстро оглянувшись, я увидел — нет, не наставника послушников отца Симплона, а брата Лоренса, с интересом заглядывавшего через мое плечо. Я прикрыл свою недостойную работу широким рукавом. Он протянул руку, взял из моей перо и принялся его разглядывать.
— Слишком остро очинено, — проговорил он, положив перо на пюпитр. — Тебя зовут Эдвардом, не так ли? — Я кивнул. — Так вот, у меня к тебе дело. Завтра я еду в Армиш и Вибрэ собирать монастырские подати. Отправишься со мной — будешь оформлять документы. Управимся за три дня. Выедем сразу после заутрени и возьмем с собой еды на всю поездку. Я поеду на сером мерине.
Я снова кивнул, охваченный восторгом, и, заикаясь, забормотал что-то бессвязное. Брат Лоренс еще раз взглянул на мою рукопись.
— У тебя неплохие задатки писца, — сказал он и ушел, поразив меня своим холодно-рассудочным комплиментом и перспективой провести целых три дня в его обществе. Я решил набраться храбрости и вызвать его на разговор о чудесной копии Евангелия от святого Иоанна.
Ни в Бургундии, ни во Франции, да что там — во всем христианском мире не было человека счастливее меня, когда, спустя день после Благовещения, холодным и ясным весенним утром мы тронулись в путь. Я был счастлив оттого, что брат Лоренс выбрал для путешествия именно эту лошадь, потому что любил Гриса; серый мерин знал это, и я ему тоже очень нравился. Я радовался мыслям — да простит меня Господь — о продуктах в переметных сумах. Как путешественникам нам сделали поблажку: мясо и жареная курица были, по крайней мере для меня, редкой и изысканной едой, потому что отец Симплон строго придерживался правил и никогда не позволял нам, послушникам, ни отступлений от них, ни послаблений, которыми часто открыто пользовались обитатели монастыря более высокого положения.
Брат Лоренс, Грис, хорошая еда… Но всем этим радостям было суждено доставить нам больше мучений, чем удовольствия.
Весь прошлый год стояла неблагоприятная погода: весной, в самое время сева, случилась засуха, и не успевшую укорениться пшеницу выдул со многих полей резкий восточный ветер, поднимавший облака пыли. Август и сентябрь были дождливыми, и немногие уцелевшие посевы, а также фрукты в садах загнили на корню, не успев дозреть. Теперь же, в конце долгой зимы, в стране разразился голод, и на большой дороге появились нищие.
Мне было почти восемнадцать лет, но я никогда раньше не видел таких исхудавших мужчин, женщин и детей с обезумевшими от голода глазами. До шестнадцати я жил в отцовском замке, не бывая нигде, кроме небольшой комнаты, где меня наставлял домашний учитель, и большой залы, где всегда было полно всякой еды. В шестнадцать я стал послушником, и хотя пища, в соответствии с правилами отца Симплона, была грубой, простой, а порой и невкусной, никто из нас не голодал.
У брата Лоренса был, как и полагалось в подобных случаях, небольшой кошель для сбора пожертвований, в котором позвякивали медные монеты. Первой же приставшей к нам группе — это были мужчина, две женщины и ребенок — он роздал традиционную милостыню, но когда за нею потянулись когтистые пальцы, я услышал, как мужчина пробормотал, что толку от денег никакого, поскольку купить на них нечего. Нет ли у нас хлеба? Я инстинктивно потянулся к мешку с провизией, вытащил хлеб и ломоть мяса и был потрясен дикой жадностью, с которой они разорвали еду на куски и тут же пожрали.
— Вот и ушел твой обед, мой мальчик, — заметил брат Лоренс. — Надеюсь, что так безрассудно расставшись с ним, ты не станешь рассчитывать на мой.
Я поклялся, что у меня и в мыслях этого не было, совершенно уверенный в том, что в крайнем случае смогу вообще обойтись без пищи все три дня. И действительно, в первый день у меня не было ни малейшего желания поесть. Меня угнетало зрелище такого количества голодающих и раздражали как протесты должников в Вибрэ, так и безжалостное упорство брата Лоренса в выбивании монастырских податей.
К середине второго дня я почувствовал голод. Мешок мой был пуст, как и желудок, и я больше не мог видеть, как ест свои запасы брат Лоренс. Никогда раньше мне не приходилось задумываться над тем, как выглядят за едой тучные люди, как падают кругом крошки, как от жира лоснятся губы. Я отошел от него и стал кормить лошадь, раздумывая о блудном сыне, поедавшем мякину вместе со свиньями, о долгих постах, описанных в житиях святых, о пребывании Господа в пустыне и о противлении его дьяволу, соблазнявшему хлебом. Я и в самом деле взял и сгрыз несколько зерен из торбы лошади; Грис ласково потыкался в меня мордой, и пришлось напомнить себе о том, что он никогда не смог бы создать той восхитительной рукописи.
Третий день был еще хуже. Боль в животе не проходила, голова словно распухла, и в ней стоял непрерывный шум, ноги дрожали, сознание помутилось. Вместо того, чтобы думать о сорока днях в пустыне или о постах святых, либо о том, какой хороший писец брат Лоренс, но ловил себя на сосредоточении мыслей на каплуне, все еще остававшемся нетронутым в его суме, — в надежде на то, этот добрый человек и христианин все же даст мне поесть и даже, глядя на мои покрывшиеся волдырями пятки, предложит с часок отдохнуть на спине Гриса. Оказавшись за околицей Вибрэ и снова увидев толпы несчастных, я подумал, что если я просто хочу есть, то они умирают голодной смертью. Мои мучения, такие невыносимые после всего трех голодных дней, терзали их уже долгое время. И тогда, сломленный ужасной действительностью, я вскричал:
— Что мы можем сделать, чтобы облегчить их участь?
Нищие подхватили этот крик, сгрудились вокруг нас плотнее, возможно в надежде на что-то, и вцепились в нас костлявыми руками. Брат Лоренс с каплуном, ломтем сыра и самой лучшей частью окорока в переметной суме поспешно пустил Гриса вперед, ругая меня на чем свет стоит за то, что я оказался виновником этой сцены.
Под вечер этого ужасного дня мы приближались к новой группе голодных нищих, самой большой из всех на нашем пути.
— И на этот раз, пожалуйста, без истерики, — предостерег меня брат Лоренс.
Их было человек пятнадцать — двадцать, в том числе несколько детей. Краем сознания, абстрагируясь от них и от собственных мучений, я отметил, что в каждой такой группе женщин больше, чем мужчин. То ли женщины легче отрываются от дома, устремляясь за подаянием к большой дороге, то ли, самоотверженно забывая о себе в заботах о своих мужчинах и детях, оказываются в голодное время более живучими.
Выглядели все они ужасающе: одетые в лохмотья, обтянутые кожей скелеты, с лицами, уже тронутыми смертельной бледностью. Когда они выросли перед нами из полумрака, я поймал себя на том, что не отрываю взгляда от одной из женщин — высокой, изможденной матери двоих детей. Эти крошечные создания, бледные, тощие и грязные, вцепились в ее юбку, и, хотя были мало похожи на человеческих детей, в противоположность остальным, в них теплилась какая-то живость, некая надежда. Мое сознание пронзила мысль о том, что все испытания, выпавшие в эти голодные дни на долю женщины, обошли детей, и, видимо, именно поэтому они выглядели лучше, а она — хуже всех остальных из толпы. В тот момент я горько пожалел о том, что опорожнил свой мешок в первый же день.
Брат Лоренс остановил Гриса, расстегнул кошель и роздал остававшиеся в нем медные монеты. Я видел — и разделял — страшное разочарование тех, кто просил хлеба, а получил по несъедобной монете. Я тронул его руку, потянулся к нему и прошептал прямо в ухо:
— Брат Лоренс, там дети… отдайте им то, что осталось в вашей суме.
— Нет-нет! — зашипел он в ответ. — Это может вызвать свалку. Успокоишься ли ты наконец, ведь просил же я тебя? — И, повысив голос, сказал: — Люди добрые, больше у меня ничего нет. Пожалуйста, дайте мне проехать. — Еле шевеля губами, он приказал: — Возьми лошадь в повод и очисти мне дорогу.
— Они голодны, — возразил я.
Брат Лоренс свирепо глянул на меня.
— Дурачина, — процедил он. — Не думаешь ли ты, что если я останусь голодным, они насытятся? Очисти мне дорогу, пока мы не нажили неприятностей. — Снова повысив голос, он продолжал: — Люди добрые, мне нечего вам дать, кроме моих молитв. Пожалуйста, расступитесь, пропустите нас.
Он натянул повод, но смирная старая лошадь стояла, покачиваясь из стороны в сторону, потому что бедняги уже окружили нас плотным кольцом. Может быть, наши доводы вселили в них какую-то надежду, и они медлили, а может быть, увидели переметную суму.
В тот момент я не думал ни о чем, кроме того, что в этот день брат Лоренс уже наелся, а по возвращении в Горбалз его ждет еще и ужин, и в его суме достаточно еды, чтобы дать этим детям куску или по два, чтобы они могли хотя бы ненадолго унять эту так знакомую мне теперь ноющую боль в животе. Я шагнул к нему и положил руку на суму. Брат Лоренс раздраженно шлепнул меня, как ребенок, защищающий свой драгоценный хлам.
— Дурак! Чем это поможет? Посмотри, как их много!
Сквозь странный гул, не умолкавший в ушах весь день, я словно услышал звон большого колокола, более могучий и чистый, чем звук колокола церкви Сен-Дени в Горбалзе. Не олицетворял ли он те самые слова, с которыми обратился к Христу Эндрю, брат Симона Петра, перед тем как были накормлены пять тысяч человек? Не вспомнил ли я ту самую страницу, на которой эти слова были выписаны рукой брата Лоренса в его копии Евангелия? Она была обрамлена узором из колокольчиков, и каждый был рупором, прославлявшим Бога. Господь, который накормил пять тысяч человек пятью ячменными хлебами и двумя небольшими рыбинами, вполне мог накормить два десятка людей жареным каплуном, половиной каравая хлеба и ломтем сыра.
Мною овладел безумный душевный подъем… Я снова ухватился за суму, и когда брат Лоренс опять попытался меня отогнать, я ударил его. Застигнутый врасплох, он свалился с лошади навзничь, на побелевшую за зиму прошлогоднюю траву. Грис вопрошающе повел головой, увидел меня и остался спокойно стоять на месте. Голодающие подошли еще ближе.
Я принялся молиться, как не молился никогда в жизни. В голове проносились бессвязные мольбы, пока я неловко развязывал сумы. Я ощущал какой-то трепет, приобщение к чему-то, некую уверенность — нечто такое, чему нельзя подобрать названия, чего я не чувствовал во время молитвы раньше, несущее мне веру в то, что Бог услышал меня и сейчас совершит чудо.
Первым из сумы появился каплун. Крылья и ножки у него оказались связанными, его зажарили целиком, но шампур вытащили, и нежное мясо было почти не повреждено. Продолжая взывать к Богу и ощущая глубокую, спокойную уверенность в его присутствии, я оторвал одну ножку вместе с бедренной костью и вручил той самой женщине с двумя детьми. Она взяла ножку, разломила пополам и дала каждому ребенку по куску. Жест ее был прекрасен, являя собою воплощение вселенского самопожертвования и нежности. Бог тоже увидел это: я почувствовал трепет от сознания его причастности к происходящему. У меня кружилась голова от любви к этой женщине, ко всем этим исхудалым, голодным людям и к Богу, который творил чудо. Я услышал собственный высокий, сильный, восторженный голос: «Подождите, подождите, здесь хватит всем!»
Ответом мне был тихий гул, похожий на стон, — в нём звучали ярость, но вместе с тем и терпение.
Осознавали ли они, что совершалось чудо? Я помню лишь, что стояли они спокойно, наблюдая и ожидая. Никто не сделал ни шагу вперед, ни одна рука не потянулась к куску, предназначенному другому. Те, которым я вручал куски, принимались есть с какой-то жестокостью и подозрительностью, каждый сам по себе.
Половина каравая в моих руках почему-то не умножалась, но это меня не обескуражило: когда все будет роздано, должно произойти собственно чудо. Я разломал на куски хлеб и ломоть сыра и стал раздавать голодным людям, каждый раз с верой, которая если и не вполне соответствовала вере, предписанной в Священном Писании, то, во всяком случае, была совершенно искренней, сильной и многообещающей. Я подождал, пока они поделили последний кусок сыра, и, когда руки оказались пустыми, а сума уныло повисла между пальцами, принялся еще усерднее молиться в ожидании чуда. Вот он, вот он, тот момент, когда небо склоняется до земли и рвется покров чувства и разума, вот он, момент чуда!..
Однако ничего не произошло. Уверенность в себе, сознание своего могущества, предвкушение чуда словно вытекали из меня, как истекает кровью смертельно раненный человек. Я услышал глухое, отчаянное "А-а-ах", выдохнутое толпой, увидел, словно сквозь туман, красной пеленой вставший перед моими глазами, бледные, худые, разочарованные лица. Двоим или троим — в том числе матери обоих детей — ничего не досталось, и ни у кого не было больше ни крошки. Я любил их, жалел их и причинил им боль — заблуждающийся, доверчивый болван, верящий в чудеса.
Отшвырнув суму в сторону, я расплакался.
— Простите, простите меня! — Рыдания прерывали мой голос. — Я думал, что хватит на всех. Если бы Бог услышал меня, досталось бы всем.
Терпеливый Грис повернул голову на звук моего голоса, и я шагнул к нему в намерении уткнуться лицом в гладкую, теплую шею, но по другую сторону лошади передо мной возникло лицо брата Лоренса, свирепо глядящего на меня сквозь нерассеивавшуюся дымку. Взгляд его был полон страха, ненависти и ярости, рот открыт: он поносил меня такими словами, на которые не расщедрились бы и неотесанные солдаты, — кто-кто, а монах не должен бы знать подобных слов. Я смотрел на него поверх серой холки Гриса и твердил:
— Бог подвел меня, должен вам сказать. Лучше бы мне было обратиться к дьяволу. Бог не может больше совершить даже самого маленького чуда…
А потом я умер и отправился прямиком в ад.